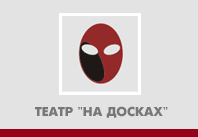|
В этом разделе читайте:
Александр Проханов.
"ЖИЗНЬ—ИЗНЬ—ЗНЬ
"
Ксения Мяло. "Обретение"
Людмила Лаврова. "Сумерки человека"
Интервью с С.Кургиняном для журнала "Страстной Бульвар, 10" (Союз театральных деятелей РФ)
Завтра, #46 (730), 14 ноября 2007 г.
Александр Проханов
ЖИЗНЬ—ИЗНЬ—ЗНЬ
О спектакле Сергея Кургиняна "Изнь"
Я был зван Сергеем Кургиняном на этот спектакль, о котором слышал не один год и который всё не появлялся в его экстравагантном и таинственном "Театре на досках". Само оповещение о предстоящем действе велось по интернету. Билеты не продавались, а дарились. Будущие зрители проходили тестирование и собеседование, словно их отбор предполагал выявление в человеческом племени особой, редкой породы, способной воспринять кургиняновскую драматургию. Спектакль обещал приоткрыть тайну "Творческого Центра", о котором слывет молва как о закрытом обществе или магическом ордене, собравшем в свое лоно кудесников, прозорливцев, предсказателей будущего, где отдельные человеческие интеллекты и дарования сложились в надличностный разум, многократно усиливающий мыслительные способности каждого. В это можно поверить, знакомясь с блестящей аналитикой "Центра", с работами по метаистории и "организационному оружию", теории развития и исторической роли спецслужб, феноменологии власти и социальному проектированию. Сам Кургинян слывет адептом "красного смысла", метафизиком коммунизма, хранителем той загадочной мистической культуры, которая таилась в глубинах советского строя, и на которую в двадцатые годы намекали труды Красина и Луначарского, а в шестидесятые — исследования Побиска Кузнецова и Эвальда Ильенкова. Той неуловимой энергии, что по сей день брезжит в розовом кристалле мавзолея, в "красном пантеоне" кремлевской стены.
Зал, куда я пришел, был полон на одну треть. Публика была не знакома. Ни завсегдатаев кургиняновского "клуба", ни известных театральных критиков, ни вип-персон. Сцена без занавеса, огромный черный куб с едва различимыми конструкциями — то ли обесточенная и обезлюдевшая полость космического корабля, то ли производственный цех, где новейшие технологии не требуют людей и источников света.
Начавшееся действо длилось без перерыва три часа. Слабый знаток театра, последние двадцать лет я посещал лишь "театры военных действий", но всё-таки рискую заявить, что явился свидетелем поистине авангардного искусства. Всё, что именуется сегодня авангардом, является либо порчей классики, либо унылыми перепевами Мейерхольда и Брехта. Здесь же авангард стал результатом необычайной по сложности, почти невыполнимой задачи, поставленной мастером. Как если бы автор задумал разыграть в театре формулу Е= mc2. Изобразить космические явления. Столкновения космогоний. Встречу Материи и Духа. Схватку Света и Тьмы. Гносеологию, где абсолют рассыпается на бесконечные свои проявления и вновь собирается в непознаваемую сущность. В спектаклях нет характеров, отсутствуют психологические типы. Здесь действуют аллегории, метафоры, символы. Язык спектакля — стихи Кургиняна — то ли из-за несовершенной акустики, то ли от галлюциногенного эффекта, воспринимается, как заклинания, череда колдовских заговоров, пение акафистов, переходящее в бульканье, птичий крик, свист ветра. В этих фантастических звуках вдруг улавливаешь фрагмент философского текста, математическую теорему, стих Александра Блока. Актуализируют действие кинокадры расстрела Дома Советов в 93-м и фотография Солдата-Освободителя в Трептов-парке, — символы победы космического Зла над космическим Добром и космического Добра над космическим Злом.
Актеры играют не характеры, а философские и религиозные представления. Их игра — это балет и гимнастика. Ритуалы таинственных обрядов и светомузыка. Руническая графика и воспроизведение древних практик. Угро-финский шаманизм. Тибетские молитвы. Элевсинские мистерии. Месопотамские культы. Весь спектакль являет собой храмовое действие, где исповедуют еще не народившуюся религию. Как во время всякой долго длящейся службы, происходят эмоциональные спады, прострация, которые вновь сменяются молитвенным напряжением и ожиданием Чуда. По завершении спектакля возникает шок, как от перепада давления, как от моментальной потери нескольких часовых поясов или резкого перехода из Полярной ночи в Полярный день. Спектакль отпечатывается в сознании, как наскальное изображение, как оттиск папоротника на сланце, как след элементарной частицы, разбившейся о нейтрон.
Хотите почувствовать себя расколотым на части нейтроном — посетите спектакль Сергея Кургиняна "Изнь".
Перейти к оглавлению
"Слово" (Москва) , N018, 21.5.2004
Ксения Мяло
ОБРЕТЕНИЕ
|
"Еще болит от старых болей
Вся современная пора..."
Ф.И.Тютчев
|
Сергей Кургинян написал драматическую поэму "Изнь". И поставил ее в своем театре "На досках".
Тот ли это театр, который москвичи знали в 80-90-е годы? Театр ли это вообще?
Сам Кургинян и в прежнее время, и сейчас настаивает на разнице между паратеатром - и театром как "фабрикой" любых, грубых или прекрасных, развлечений.
Слух о новом спектакле Кургиняна уже гуляет по Москве. Но кто эту кургиняновскую "Изнь" а) видел, б) как-то понял?
Кургинян чуть ли не "секретит" свою новую постановку. Допускает на просмотр лишь тех, кого называет "клубными зрителями". Билетов - не продает. И эти клубные - выходят со спектакля в шоке и сообщают нечто невразумительное (мистерия, метафизика, контрпостмодерн и пр.).
Но один зритель, видевший "Изнь" и способный ответить на брошенный интеллектуальный вызов, есть.
Это выдающийся культуролог и политолог Ксения Мяло.
Ей - слово.
Этот очерк - не рецензия, да и вряд ли, не будучи театральным критиком, я бы стала писать ее. Однако новая работа творческой мастерской Сергея Кургиняна лично мне показалась явлением прежде всего - и, может быть, даже более всего - общественной жизни, своего рода осмыслением пройденного Россией за последние 15 лет пути в контексте метафизических проблем и "старых болей", боль которых иные уже и перестали ощущать, а другие никогда не ощущали. В том же ключе захотелось и мне взглянуть на "...Изнь".
Взрыв в метро и обвал "Трансвааля" последовали друг за
другом с недельным интервалом. И московская Масленица 2004 года, бестрепетно проплясавшая на разорванных, раздавленных телах, особенно отчетливо выявила суть, можно даже сказать, некий общий шифр того нон-стоп празднества, в которое все самозабвеннее погружается жизнь современной России. Чем больше множатся признаки катастрофы, чем гуще запах пожарищ и развалин, тем бешенее крутится карусель уже почти без перерыва переходящих один в другой праздников. Смысл их для огромного числа людей либо уже утрачен (что такое 7 Ноября и почему это праздник в ненасытно глумящейся над красной эпохой новой России?), либо так и не возник (что такое загадочный День независимости России?), либо они вообще являются бессмысленным поводом "оттянуться" (кто в России, кроме католиков, искренне чтит святых Валентина и Патрика и кто хоть что-нибудь знает о них?). Общественный запрос на смысл вообще все меньше (его взыскует, похоже, убывающее меньшинство), зато стремительно возрастает запрос на карнавал. И Масленице по определению принадлежит здесь особое место.
Восходя к архаическим ритуалам плодородия, своим центром имевшим человеческое жертвоприношение, она (как и европейский карнавал), даже будучи прирученной и встроенной в христианский календарь, не до конца стерла следы своего происхождения. Это великолепию уловил Гете в главном ритуальном возгласе итальянского карнавала: "Sia ammazzato!" ("Да будет убит!"). Убит - кто? Тут открывалось поле безграничных возможностей: от сведения счетов мести, ревности, политического соперничества до безмотивного кровопролития, которым, быть может, более всего и насыщалось то потаенное, несказуемое, что полностью (и едва ли не преднамеренно, но это предмет отдельного разговора) обошел Михаил Бахтин в своей знаменитой интерпретации Рабле. Сегодня уже как-то подзабылось, но, однако, пора и вспомнить, что его концепция карнавализации стала, как принято говорить сейчас, культовой для позднесоветской интеллигенции и одним из важнейших слагаемых вынашивавшейся ею идеологии сокрушения СССР. Потому что советскую власть антисоветская интеллигенция с ее "шестидесятническим" ядром беспредельно ненавидела, в частности, и потому, что та, пусть ветшая и маразмируя, все еще отказывалась признать безусловную ценность безграничной свободы пресловутого "низа". Ибо даже остаточной связи с высоким духом классического гуманизма, на почве которого, как и на почве могучих хилиастических устремлений к торжеству правды на земле, возросли в свое время красные идеалы, было достаточно, дабы понять: в пределе идеология "низа" имеет целью не только свободу "яства поглощать" и бескомплексно совокупляться, но и нечто иное. Черты этого иного все явственнее обозначаются в нашей жизни, а само оно теперь уже даже желает быть узнанным и названным по имени.
Так иногда, прежде чем нанести последний, смертельный удар, снимают маску.
Но вот - рухнула ненавистная, и "низ" короновался и воцарился. Притом - надолго и всерьез, а не на манер "царя на час" былых времен, неотвратимо обреченного на заклание, или средневекового карнавального Папы, терявшего свою шутовскую тиару с первым ударом церковного колокола, что возвещал начало Великого Поста и, стало быть, новое утверждение "верха". В пепельную среду, писал Гете, все "возносили благодарение Богу и церкви за то, что наступил пост". Сходный обычай существовал и в России. Как говорил дядька маленького Ивана Шмелева, "теперь уж все другое, теперь душа начнется".
Сейчас пост у нас - личное дело очень небольшого меньшинства, и это, наверное, было бы хорошо и нормально, коли частным, домашним делом оставалась бы и Масленица. Но ведь это не так: напротив, с каждым годом торжественность и размашистость приготовлений к ней нарастают, словно бы речь и впрямь шла о событии, даже о ритуале огромного общенационального значения. И странно - а по мне, так и жутковато - видеть, что никто, не исключая представителей церкви, как будто и не замечает той инверсии, которая происходит при этом с самим понятием "жизнь" и так ярко явила себя в феврале 2004 года.
"Dea Vita", "Богиня Жизнь" - вот так пышно нарек в свое время самоцельную игру биологических начал, подчеркнуто чурающуюся всякой нравственной и уж тем более метафизической рефлексии, один из самых ярких виталистов начала XX века, но, к сожалению, не слишком известный у нас французский писатель Анри де Монтерлан. При этом с прямотой, вообще отличавшей мыслителей этого круга, полноту торжества "Dea Vita" он открыто связывал с привкусом и запахом крови, с деструкцией и смертью.
Своего рода чистый эталон такого торжества он увидел в поведении тех римлян, о которых рассказывает бл. Августин и которые среди воплей и стонов, среди грохота рушащейся империи все еще продолжали заполнять трибуны Карфагенского цирка.
Но что такое, в сухом остатке, римский цирк? Это - опущенный вниз палец зрителей, жаждущих увидеть смерть другого, чтобы полнее ощутить ликующую радость собственного бытия. И не о том же ли доносящееся к нам из тех же сумрачных глубин, с детства знакомое нам бормотание-заклинание Костяной ноги: "Покатаюсь я, поваляюсь я, Терешечкиного (Ивашечкиного) мясца наевшись".
Но инстинкты такого рода ненасытимы, и не обернется ли в конце концов возведенная на трон Dea Vita даже не просто смертью, но "Смертью, повелительницей мира"? (Именно эти строки из "Махабхараты" вспомнил Оппенгеймер при испытании атомной бомбы в Лос-Аламосе). Не думаю, чтобы все "шестидесятники" были столь наивны или невежественны, чтобы не схватывать зловещей диалектики. Часть, во всяком случае, не только о ней знала, но и принимала ее, усматривая здесь мощное средство раскачки и сокрушения "системы", притом, как показал дальнейший ход событий, не только конкретно советской, но именно запечатлевшегося в высших ее проявлениях духа героического гуманизма. Отсюда камуфлированное под защиту "маленького человека" опрокидывание и осмеяние всякой вертикали, лествицы ценностей и смыслов жизни, культ ее ненапряженности. И отсюда же - неутомимое ритуализованное поношение и растаптывание памяти о войне с фашизмом, что парадоксальным образом нашло выражение в безжалостной (куда уж тут позднесоветской!) цензуре, которой было подвергнуто творчество внешне "окумиренного" Высоцкого. Совершенно перестали звучать его военные песни, которыми так дорожил сам Владимир Семенович.
Не дошло разве что до поношения Голгофы, хотя одна известная писательница, сделавшая себе имя как раз на рассказах очевидцев о войне, уже поднимала вопрос о том, что настало время "предъявить счет христианству за культ жертвенности". Но если и не дошло, то по причинам скорее внешним: общего духа религиозного возрождения первых лет жизни "новой России" (и возрождение это приветствовалось той же интеллигенцией прежде всего тоже как полезный инструмент в важнейшем деле сокрушения "совка"), вошедшей в плоть и кровь привычки к лицемерным разглагольствованиям о "ценности каждой человеческой жизни", пресловутой "слезе ребенка" и т.д. и т.п. И лишь у немногих, быть может, - из-за искреннего непонимания, каким же образом совершилось то, что совершилось, и какую черту они теперь должны перешагнуть, кому и чему поклониться. Таким вот мне и видится главный герой работы театра Кургиняна, со странным и на первый взгляд не слишком понятным названием "Изнь". Впрочем, думаю, уже ясно, что речь идет о той самой инверсии жизни, о, если угодно, вывернутой наизнанку жизни, самовластное утверждение которой и явилось плодом столь долгих и совокупных усилий.
Многие точки над "i" расставляет здесь Владимир Сорокин, в своем, к сожалению, не привлекшем столь большого внимания, как его книги, интервью четырехлетней давности. Оно, однако, сохраняет актуальность и теперь. Между делом речь в нем зашла и о "распаде империи" (удивительная перекличка с Монтерланом!), и именитый автор доверительно поделился почти интимными переживаниями, которые у него, как, впрочем, и у узкого круга его знакомых возбуждает распад СССР: "...Весело и страшно. Как скольжение по льду... Можно очень хорошо распадаться! Но для этого надо либо иметь приличные деньги, либо ничего не иметь вообще. Но чувство сладостного гниения есть" (курсив мой. - К.М.).
Итак, слово сказано, и чувство названо: наслаждение тлением. Но ведь не сами же по себе неорганические развалины, каменные и металлические руины, останки гигантской индустриальной инфраструктуры советской поры способны издавать запах тления, но то, что истлевает под ними, - жизнь, ибо только она может гнить и тлеть. Речь, стало быть, идет о наслаждении гибелью жизни как главном жизненном удовольствии, а когда предъявляется такое кредо, да еще в такой завершенности, с ним не спорят. Здесь точка, где пути "свободного поиска" (одна из ключевых формул "Изни") могут лишь непримиримо расходиться. Не исключено, что выбор придется оплатить ценой собственной жизни, что и происходит с героем спектакля; но этой же ценой оплачивается если и не превращение "изни" снова в "жизнь" (это было бы слишком легкое решение), то, во всяком случае, обретение такой возможности.
Такой путь иногда именуют инициацией, и он тем тяжелее, чем более одинок герой, прокладывающий свой путь к неведомому еще выходу, чтобы "вновь узреть светила". Именно этим словом - "светила", а точнее, звезды (stelle), заканчивается каждая из трех частей "Божественной комедии", и о них напомнили мне краткие, стремительные вспышки красной пятиконечной звезды в сумраке, в котором движется герой. Сумраке не только буквальном: царящий на сцене полумрак - это скорее метафора, символ душевного потемнения, захлестнувшего и любовь героя - Раду, которая, на другом плане, предстает также и олицетворением России - как в высшей точке ее восхождения, так и низшей точке падения.
Ибо напрасно Сорокин полагает, что людям "простым, без рефлексии" наслаждения сладостью тления недоступны, а это "есть стиль существования интеллигенции". Как хочется все-таки избранности! Но в данном случае подобные притязания неуместны, потому что толпа, глазевшая в октябре 1993 года на расстрел Дома Советов, не из одной лишь "интеллигенции" состояла. И хотя многие в ней и слыхом не слыхивали о "погребальном Эросе" (еще один из образов Монтерлана), но инстинктом чуяли его присутствие, что в одной из самых сильных сцен спектакля и демонстрирует Рада (Вера Сорокина). Предельно откровенными жестами она договаривает то, что не решился договорить певец "синего троллейбуса", который ведь тоже, по его собственным словам, в тот октябрьский день наслаждался звуком каждого танкового выстрела. По неизбывной "шестидесятнической" привычке к благостному лицемерию он, правда, счел необходимым привнести "благородную" мотивацию политического, идейного противостояния ("я ненавидел этих людей" и только потому, мол, наслаждался их убоем).
Но этот довесок, право же, был лишним, ибо и "интеллигенция", и "простые" соединились в общем падении. Только "простые" и делали это проще, непосредственно наслаждаясь смертью другого (а заодно и пивом, чипсами и т.д. - ведь на трибунах римского цирка, как и на средневековых площадях, где вершились публичные казни, тоже разносили всякую снедь). "Интеллигенция" же находила слова и оправдания для этого чувства, идеологизировала и прихорашивала его, тем самым безусловно выполняя некую миссию. Только миссию, прямо противоположную той, которая вначале подразумевалась словом, позже сделавшимся обозначением этого своеобразного ордена.
Оно восходит к средневековой схоластике, где понятие "intelligentiae" обозначало высших духов, т.е. ангелов, связующих горний мир высших смыслов с человеческим, срединным миром. Высших духов, которые, по оказавшему громадное влияние на средневековый запад учению Дионисия Ареопагита, суть мысли Бога. Ну, а если "intelligentiae", "извратив путь свой на земле", приводят к порогу тьмы - "Тьмы, что старше Проявленья"? Падшими ангелами их не хочется называть лишь потому, что образ этот романтизирован великой литературной традицией, а главное - несет на себе отпечаток страдания, некой изначальной метафизической драмы, может быть, и драмы в самом Боге. На нее указывают некоторые эзотерические учения, в том числе и Каббала. Но как раз страданию-то, драме оказалась чужда, абсолютно чужда советская "орденская" интеллигенция, которую, если воспользоваться символами Рудольфа Штайнера, уместнее отождествлять с асурами, мелкими, но и самыми опасными бесами похоти, тщеславия, лжи, но отнюдь не с Люцифером или Ариманом.
Тут уж даже не пушкинская "жизни мышья беготня", но скорее льнущие к крови, тлену и самым грязным отбросам физиологической жизни мухи, жужжание которых наполняет пространство сцены в "Изни". Им ведь тоже нравится сладостный запах гниения, а кроме того, у них есть Повелитель - Повелитель Мух, Вельзевул. Мы оказались даже не "бездны мрачной на краю" (ибо этот образ обладает могучей притягательной силой), а именно бездонной выгребной ямой, и отшатывание Рады от нее - бунт не только этики, но и эстетики.
В зал врывается - хочется даже сказать, в зале взрывается - песня Высоцкого об истребителе, песня из той, отвергнутой и преданной забвению, части его наследия. Врывается, как вспышка света. Происходит ли здесь подлинное и полное просветление Рады? Но, признаться, тема загадочного иерогамоса(соединения женщины с металлом погибшего краснозвездного самолета в некой таинственной Горе), на мой вкус, ответа на этот вопрос еще не дает. Если Рада - это Ева, жизнь, сознательно, в глухом сумраке живодерни, выбирающая, от кого она хочет продлить себя и отцом своего будущего ребенка делающая уже давно погибшего, а главное, забытого отверженного и поруганного Героя былой битвы с силами Тьмы, то эта, близкая мне мысль, кажется переусложненной и затемненной отсылками к "ПСИ" и "зоне "Че"", впрочем, может быть, более понятными поклонникам братьев Стругацких.
Да и рожденная ею девочка Оля, спасая которую от новых посягательств вечно голодной "Изни" погибает пришедший в это сумрачное подполье искать жизнь герой, Максим (Михаил Дмитриев), вначале как будто ничем не выдает своего родства с краснозвездным металлом. Интонация неистребимого стеба еще больше, чем блокбастеры, "Тату" и Джеймс Бонд, отделяет ее и от Рыбы, и от того, чье имя так ни разу и не произносится и которое ею условно обозначается ироническим "жил да был". Но есть вещи, которые позволяют говорить о себе, которые открывают себя не на всяком языке. Постмодернистская лексика мистерии (уже само сочетание этих слов кажется оксюмороном) грозит обернуться гигантской ловушкой, жизнь Оли балансирует на грани того, чтобы в свой черед быть затянутой в бессмысленный круговорот "Изни", а краснозвездная жертва - на грани того, чтобы вновь быть поруганной, как выплеснутая или даже выплюнутая наземь кровь Евхаристии.
Но все решает интонация, не слово даже, а какая-то изначальная его первооснова. Глубокая и чистая серьезность, с какой бабушка (Марина Волчкова) в ответ на развязное "жил да был" и "без прикола" произносит всего лишь два простых слова: "Он жил" (они - последние, что звучат в спектакле), переносит все действие на другой план, меняет освещение. И в ответ на этот чистый призыв, словно расколдованный, из мглы начинает проступать Он - Воин, Герой, Освободитель, вновь воздвигающий вертикаль, столп отвергнутой Истины.
По стечению обстоятельств, которое люди экзальтированные могли бы назвать мистическим, Анатолий Ван-Ван-Е успел снять знаменитый памятник в Трептов-парке незадолго до того, как он был демонтирован - сказали, что для ремонта и что Освободитель вернется на свое место к 9 маю 2004 года. Что ж, посмотрим. Но съемка, как она была сделана, придала монументальной фигуре необычные черты какой-то эфирной прозрачности - словно впрямь приоткрылось то, что на языке эзотерики именуется хроникой Акаши. А мне вспомнилось учение св.Григория Нисского о сфрагидации - "наложении душою знаков на вещество". Этот отпечаток нестираем, и, кажется, даже на листве, трепещущей вокруг фигуры Героя, начертаны некие письмена.
В нашей воле прочитать их или отвергнуть, но покидаешь зал с чувством обретения. Потому что ОН - жил.
Перейти к оглавлению
Литературная газета (Москва), N028, 14.7.2004
Людмила Лаврова
СУМЕРКИ ЧЕЛОВЕКА.
"...изнь..." в творческой мастерской Сергея Кургиняна
К одной мудрой старой книге, сегодня в России забытой, как, впрочем, и многое из оставленного нам в наследство историей и культурой, был предпослан эпиграф из Хуана Рамона Хименеса: "Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек".
Первое ощущение, которое приходит на премьерном показе спектакля "...изнь..." ("жизнь" с отсеченной заглавной буквой) Творческой мастерской Сергея Кургиняна: это написано, сделано, сыграно "поперек"... Поперек политических прописей, житейских клише, ограниченных и затертых интерпретаций давнего и недавнего прошлого, агрессивных стереотипов российского "новояза", наконец, в нарушение всех правил игры, сложившихся в современном нашем театре.
Важно и то, что избранный путь здесь не самоцель, не средство самовыражения, не режиссерский прием, рассчитанный шокировать или "сделать красиво" публике. Все гораздо серьезнее. В Творческой мастерской Кургиняна - свое видение того, для чего существует театр, ради чего и зачем актеры выходят на сцену. Этот коллектив, судя по тем задачам, которые он перед собой поставил, можно, наверное, назвать некой "новой организованностью" (определение философа А. Неклессы), пусть малым, но "субъектом социального действия", стремящимся средствами искусства произвести революцию в сознании зрителя.
Здесь вам не обещают привычной, собственно театральной работы. Режиссер и создатель постановки, обозначенной жанром пара-поэма, предлагая зрелище для тех, "кто ищет понимания и взыскует смысла", отсылает публику к мистериальным истокам театрального действа, к пара-театру, который "не развлекает, а исследует непрозрачное... то, что категорически скрывает себя от любых других средств исследования".
Такой театр заведомо не рассчитан на "потребление" с погруженным в сон разумом. А ведь именно подобный подход, развращающая людей установкой на упрощение, потакание инстинктам сытого обывателя процветает сегодня, в том числе и на театральной сцене. Производители постановок-клонов в стиле дешевого (не в плане цены за билет) развлекалова вряд ли бы поняли, если бы им попытались толковать об эмоциях как феномене сознания, об интеллекте как о нравственном выборе между позором и честью, геройством и предательством, благом и злом...
В пьесе нет сюжета в привычном нам понимании, хотя на сцене - вполне традиционные персонажи: мать, сын, невеста, друг. Для предельной концентрации замысла все происходящее вынесено в метафизическую реальность, преображающую самые обыденные вещи и слова, разрушающую их ограниченный смысл. Там и разворачивается вселенная общечеловеческой проблематики, где ядро -это "свое", наша история, "русский эксперимент", чье значение, протекание и результат могут стать определяющими для истории человечества.
Как по крохотному кусочку ткани сегодня идентифицируют личность, так по микросрезу событий 1993 года воссоздается на сцене целостная картина нашего прошлого почти за столетие, и на этом срезе проступают его символы и глубинные возможности, нами затоптанные, выплескивается опаляющая энергия мечтаний, борьбы и надежд эпохи "красного смысла", словно вызов ей - кричит бесстыдством торжествующей пошлости и звериных начал сегодняшний день. Наше сегодня, которое пытается вопрошать прошлое, разгадать его загадки, будто Эдип у Сфинкса...
Жизнь, любовь, смерть, новое рождение - персонажи пьесы вырываются из этого извечного круга в надежде узнать причину своих страданий, выяснить, почему, кем и справедливо ли они даны человеку. Кто мы? Люди или "почти как люди", куклы с приросшей к лицу маской, которую нам навязали, или же мы сами добровольно надели ее на себя? Вот один из главных вопросов, который полемически заостряется в спектакле.
Есть жизнь и "...изнь...", подобная монотонному жужжанию назойливой мухи. Есть поиски рая и "краек утех"... И зрителю вместе с героями предстоит отбросить все уютные иллюзии, суметь решиться на отчаянное мужество познания и увидеть: душа, очарованная жаждой и похотью "...изни...", пребывает в разжиженной, не явной до конца смерти. А жизнь духа не есть жизнь, которая теряется перед смертью и трусливо охраняет себя от разрушения. Такая жизнь выдерживает смерть и сохраняет себя в ней, она -не биологическое существование.
Звучащий со сцены напряженный текст представляет собой органический сплав идей и образов от мифологических до самых злободневных, а также религиозных и философских реминисценций, прямых литературных цитат с разговорной речью вплоть до жаргонной. Все это объемное живое драматургическое сооружение обретает по мере развития действия новые смысловые грани и оттенки за счет не иллюстративного, а равноправного и значимого включения кино-, живописного и музыкального материала. Сутью же этого многомерного синтеза является острейший диспут о предназначении человека, о его ответственности за нарастающую порчу мира. Где, когда произошел тот роковой сбой, расстыковка во времени, которая чревата для истории человечества даже не Судным днем Апокалипсиса, а гораздо более страшным исходом - окончательным растворением гуманистического начала в черном провале элементарных стихий, когда останутся наедине друг с другом лишь падший творец и падшая тварь.
Ничего готового - ни выводов, ни рецептов - зритель в театре С. Кургиняна не получит. Это противоречило бы самому замыслу постановки - люди должны услышать сквозь нервный ритм спектакля, к примеру, вот что:
|
В ком сердце есть, тот должен слышать время,
Как твой корабль ко дну идет...
|
Ибо корабль мира сего, оставляемый Духом, неизбежно погибнет, он обречен Тьме. И тут уж не спасут никакие усилия разнообразных политтехнологов или "консультантов с копытом", выдающих себя за "прогрессоров"...
В чем же надежда?
В финальной сцене постановки видим Послание Света во Тьму, слышим голосок ребенка, робко и ошеломленно вопрошающего: "Он был?" - ребенка, взращенного в сегодняшнем виртуальном мире... Там вот, лишь в этом далеком сиянии, в этой вопросительной интонации и кроется еще не надежда даже, но ее крохотный росток.
В том, что этот спектакль удался, велика заслуга актерского состава творческой мастерской. Исключительно насыщенное "поле" пьесы требует от исполнителя, кроме профессионального мастерства, еще и умения жить в произносимом тексте со свободой и легкостью существа, пребывающего в органически свойственном ему измерении. Но одно дело сыграть драму поступков и ситуаций, совсем другое - столкновение идей, драму времени и личности, раскрытую в символах. С помощью смелых театральных приемов Сергей Кургинян и его актеры вторгаются в ту область, где позволено было творить только литературе. Наверное, это и есть самая тонкая находка режиссера: сделать зрелищным Слово, наделить его воздухом, перспективой, выразить самую сложную мысль игрой.
Перейти к оглавлению
"Страстной бульвар, 10", 1-71, сентябрь 2004г.
Интервью с С.Кургиняном в журнале Союза театральных деятелей РФ.
Беседу ведет Татьяна Никольская.
"Я
формировал элиту и формирую ее"
Сегодня у
нас в гостях Сергей Кургинян –
президент Международного общественного фонда "Экспериментальный творческий
центр", режиссер и художественный руководитель Московского театра "На досках",
политолог, кандидат физико-математических наук.
– Сергей
Ервандович, расскажите, пожалуйста, что такое ваш Центр. Это же не просто театр, где
ставятся и играются спектакли. Даже отвлекаясь от того, что ваши спектакли,
скажем так, не совсем в русле традиционного театра, – ведь вы занимаетесь еще и другой деятельностью.
– Историю возникновения Центра
невозможно оторвать от истории нашего театра. Когда я учился в
геологоразведочном институте, я организовал там самодеятельный драмкружок.
Руководил им Евгений Завадский, который за пять лет научил меня очень многому.
Мы поставили несколько спектаклей, которые стали модными, на них стали ходить,
но мне все время хотелось от театра чего-то другого. И однажды я собрал людей у
себя на квартире и сказал, что теперь у нас начнется философская работа, поиск
новых возможностей, технологий. Кто верит, что мы сделаем в Москве
профессиональный театр особого типа – оставайтесь. Десять человек сказали "да",
и восемь из них до сих пор со мной. Мы дали себе слово, что будем заниматься
этим профессионально, и на протяжении пяти лет буквально не выходили из той
квартиры.
– Ради
этого людям пришлось бросить работу?
– Люди сменили ее на более легкую –
с соответствующим ущербом в заработной плате и перспективах, и мы занимались
пять дней в неделю по 5 часов и оба выходных по 12. То есть у них была как бы
вторая рабочая неделя. Мы занимались психотехническими дисциплинами, нашли
блестящих педагогов по речи, голосу, вокалу, движению, боевым искусствам.
Осваивали медитацию, этнокультурные техники, присматривались к шаманам,
колдунам. Параллельно ставили спектакли. В конце 70-х годов я поступил в
Щукинское училище. Потом и наши ребята стали туда поступать, то есть вторую профессию мы постигали вполне
серьезно. В 80-м году показали первый спектакль – по рассказам Шукшина: мы
прочитали его как Андрея Белого.
Вообще, пафос наш был в том, что мы
восстановим традицию символического театра в России. Мы были свидетелями
разгрома авангарда, и мы поклялись, что для нас авангард останется, мы найдем
для него новое дыхание. Мы изучали паратеатр по самиздатам Гротовского и
других, и когда я приехал в Польшу в Центр Гротовского и начал показывать, что
мы делаем, это произвело впечатление, хотя, конечно, это не имело никакого
отношения к Гротовскому. Мы во многом перешагнули некоторые рубежи. Второй
спектакль, "Экзерсисы", получился
из отрывков, которые я делал в училище. И третий – мой дипломный спектакль – "Записки из подполья" Достоевского,
который я поставил как сплошной монолог, разделенный на семь голосов, –
шизофрению сознания.
Эти
три спектакля образовали наш репертуар. К нам возник большой интерес, который
шел в русле общей контркультурной волны, связанной с загниванием господствующей
идеологической культуры. Среди наших зрителей были родственники членов
Политбюро и их близкие друзья, работники партийных органов. Вокруг театра сложился
философский кружок. Я всегда грезил интеллектуализмом, и единственным вопросом,
который всерьез меня интересовал всю жизнь, были интеллектуальные эмоции,
соответствующие сверхсознанию, их природа и так далее. Люди приходили на
спектакли, а потом 10 – 12 человек оставались пить чай на всю ночь, и мы
говорили. И когда М.С.Горбачев начал перестройку, довольно быстро вся эта
группа нас поддержала. Там были будущие секретари горкома партии, работники
партийных и государственных органов, для которых мы были площадкой
стратегирования для будущего рывка.
Нам
дали статус экспериментального государственного театра и самофинансирование.
Хотя перед этим театр закрывали раз двадцать, доносы на меня писали в духе:
"на задворках Малой Грузинской притаилась идеологически смертельно опасная
секта". Я вошел в число авторов новых форм – театров-студий на коллективном
подряде. Вообще-то коллективный подряд – любовь Михаила Сергеевича –
существовал, в основном, в сельском хозяйстве Ставропольского края.
Вокруг этого театра я добился создания культурно-научного центра. Вот вторая тема моей жизни – трансдисциплинарность. Как оперировать мультидисциплинарными, интрадисциплинарными, трансдисциплинарными исследованиями. Философский кружок постепенно превращался в профессиональный "мозговой центр". Кто финансировал работу? Театр!
Во время Карабахского конфликта я предложил моим друзьям из ЦК – поеду туда и сделаю экспертизу. Они сначала боялись: как это
армянин поедет в Баку, - потом дали добро. Мы приехали туда в разгар кризиса. Из окна последнего этажа гостиницы "Баку" я увидел
клубящуюся миллионную толпу, идущую по улицам, и понял впервые, что моя страна разваливается. Я приветствовал реформы, свободу, весь этот потенциал перемен, но я не хотел, чтобы у меня отняли страну.
Большого аналитического опыта у меня к тому моменту не было. Со мной было несколько людей, которые потом остались в моей жизни. Я начал общаться со старыми бакинцами, разбираясь, что происходит. В результате родился отчет о ситуации, где я описал внутренние механизмы армяно-азербайджанского конфликта. Отчет сразу попал в Политбюро. Он оказался абсолютно верным, власти испытали шок. Я двигался в фарватере перемен, единственное, чего я не хотел, чтобы эти перемены завершились развалом. Началось наше стремительное восхождение. Мы создавали программы, были главной экспертной группой в Вильнюсе по событиям так называемой литовской трагедии, нас приглашали экспертами по другим конфликтам. Мы видели это все, мы собирали некие новые силы для чего-то, и, наконец, наша деятельность вывела меня непосредственно на Горбачева, с которым у нас была продолжительная встреча.
А
потом случился ГКЧП. Мы никакого ГКЧП не хотели, но хотели, чтобы Горбачев
остался только президентом и отдал партию в другие руки. А партия ушла в оппозицию.
Мы понимали, что если партия уйдет в оппозицию в полном составе и начнутся
рыночные реформы, то через два года партия снова будет у власти.
– Вы хотели, чтобы партия была у власти?
– Я
хотел, чтобы она была радикально реформирована, хотел вернуть ей роль
интеллектуального форварда. Мы говорили о гуманизме и о постиндустриальном
развитии, о посткапиталистических фазах и так далее. Мы наполняли все это новым
содержанием и хотели иметь новую политическую структуру достаточно радикального
левого толка, которая не состояла бы из баранов и коррупционеров и не
охватывала бы 8-10 миллионов людей, но и не стала бы небольшим драмкружком
Зюганова; хотели, чтобы это была действенная структура. Мы понимали, что если
Горбачев начнет защищать реформы Гайдара, то компартия, ушедшая в оппозицию,
придет к власти достаточно быстро. Видимо, кого-то это беспокоило намного
больше, чем ГКЧП.
ГКЧП
быстро накрылся, и было понятно, что он
накроется. Я понял это, когда увидел "Лебединое
озеро" вместо разговора с народом. Люди рвали партбилеты перед телекамерами, и
ничего более отвратительного я в своей жизни не помню. Меня вызывали в
прокуратуру и так далее, но поскольку было ясно, что я не имел к ГКЧП никакого
отношения, кончилось это ничем. Однако в результате подобного
шельмования от меня отвернулась масса людей, я вдруг стал "оплотом реакции". Рядом со мной остались
действительно верные люди, и большая часть из них – это те, кто пошли за мной в
театр.
Судьба
театра развивалась параллельно с судьбой страны. Залы ломились, публика восторгалась, но я понимал, что это конец
определенной эпохи, определенного жанра. И когда в 92-м году дым рассеялся и мы
оказались брошены на выживание, вдруг выяснилось, что ядром интеллектуальной
деятельности, не оставляя деятельность культурную, оказались мои актеры, те 7 –
10 человек, не просто верные, но взяшие на себя весь труд.
93-й
год поставил еще одну точку, еще один раз я оказался фигурой, интересной
прокуратуре, поскольку я был советником Хасбулатова.
После
этих гигантских политических скандалов вокруг образовалась некая зона молчания.
Мы стали создавать Центр и театр заново. Я объявил, что новый театр не будет
уже театром "На досках", потому что вся контркультурная мода – в
прошлом, сама жизнь стала театром,
главным актером – Жириновский, и отражать жизнь бессмысленно, театр должен
двигаться куда-то еще. А поскольку мы к паратеатру всегда относились серьезно,
мы просто продолжили и развили наши эксперименты. Параллельно ребята взяли на
себя гигантский груз аналитической деятельности. Слепли у компьютеров и
одновременно тренировались у балетных станков. Это опять была двойная рабочая
неделя, но они к ней привыкли. Мы выстояли в рынке и оказались в каком-то
смысле одной из самых востребованных структур элитного консультирования. Теперь
уже аналитический центр содержал театр. На свои деньги мы заново построили
театр, оснастили его самой современной техникой и продолжили свои театральные
эксперименты. Театр и аналитический центр слились.
– Ваши артисты такие же аналитики, как, скажем, не могу
вспомнить фамилию нашего известного политолога, обеспечившего победу на выборах
президенту.То есть они выполняют сложнейшие аналитические задачи, являясь
одновременно артистами?
–
Сложнейшие. Задачи, которые они выполняют, в сегодняшней России беспрецедентны.
Группа оказалась востребована, как сейчас принято говорить, на высоком
международном уровне.
Мои
ребята не артисты и не аналитики. Не было никогда театра как такового. Это
реализация на практике некоторых форм синтеза науки, культуры, эмоций, мышления.
Мы это осуществили, мы знаем, как готовить людей, которые могут выходить на
другие уровни сознания, работать с собой, погружаясь вглубь и поднимаясь
наверх. Это интердисциплинарные специалисты, ядром профессии которых является
ощущение своей связи с некими идеальными сущностями, какого-то своего служения.
Это группа, которая осуществляет мистерию, литургию некой формой деятельности.
Это не искусство, это формы мышления непосредственно в сценическом
пространстве. Они открывают что-то для себя, новые миры, они идут на каждое
выступление с ощущением психологического риска, срыва или, наоборот, победы.
Они говорят, что после каждого выступления для них начинается какой-то виток
новой духовной жизни. Это духовный опыт.
– Ваш театр работает не для зрителей, так зачем они вам? Вы обогащаете свой духовный
опыт, и делаете это для себя.
–
Нормальный актер не может играть без зрителя. Мой – может. Потому что для него
очень велик стимул самопознания в процессе игры. Зритель помогает, усиливает
волну, если оказывается когерентом. Но мешает, если ждет зрелища. Некоторые
приходят к нам на спектакли по 11, 15, 20 раз, потом становятся членами наших
клубов – то есть интегрируются с нами в некие формы социально-духовной жизни. Я
никогда не пытался встроить свое начинание в классический типологический ряд
театральных форм. Позднее я понял, что все мои апелляции к Гротовскому смешны,
мы делаем совсем другое. И все, что мы оставили от терминов эпохи Гротовского и
Брука, – это слово "пара". Оно мне кажется верным. Мы занимаемся
паратеатральной, паранаучной деятельностью и соединяем их. Все, что мы говорили
о метадисциплинарности, интегральности, синтезе, формах мышления – все это мы
реализовали. Другое дело, что я, наверное, не смогу это никому передать. Так и уйдем с этим знанием сами.
– Конечно, вы не можете в свой Центр или театр брать
выпускников театральных вузов, вы работаете только со своими людьми, которые
вас понимают и существуют с вами на одной волне.
– Через год – два я надеюсь открыть учебный центр и взять туда какое-то
количество людей с тягой к ненормальному в театре. Есть такие люди: они
приходят в театр и сами не до конца понимают, зачем. Когда я ставил
"Великодушного рогоносца" в Саратове, который потом был запрещен как оккультно
вредный...
– Что же было такого необычного в этом спектакле, в
какие вредные оккультные игры вы играли?
–
Ничего! "Великодушный рогоносец"
– что там может быть? Мистическая форма, форма некоторого состояния транса,
погружения. Саратовские актеры начинали это все схватывать. Я быстро выбрал в
группе людей, которые пришли в театр не за театром, а за каким-то чудом, за
мистическим, метафизическим соприкосновением, другими формами самопостижения. Я
ставил во МХАТе у Дорониной "Батум"
Булгакова в 1992 году, Доронина, перед выпуском спектакля, вся исходила
слащавым восторгом по поводу "гениальности"
моей режиссуры. Худсовет, проходивший под ее руководством, выпустил спектакль
на зрителя с оценкой, которую я бы охарактеризовал как непристойно и неумеренно
восхвалительную. Потом... Потом Дорониной позвонили с самого верха. Поговорили –
судя по всему – очень и очень круто, безо всякой оглядки на бесцензурность
новой эпохи. Доронину – как подменили. Новый худсовет переписал протокол "с
точностью до наоборот". Актеров вызывали на ковер и заставляли каяться.
Шел
ноябрь 1992 года. Оставалось 11 месяцев до расстрела Белого дома. Но нюх
Дорониной, отработанный в предшествующую эпоху, был острейший. А все остальное
(совесть там всякая и т.п.) подчинялось этому нюху неукоснительно и безропотно.
Пожалуй, это был единственный спектакль, который после распада СССР был реально
запрещен.
– Значит, вы все-таки хотите выйти на традиционные
формы театра?
–
Нет. В 80-е годы я делал это для того, чтобы иметь некий брэнд и продвигать
своих людей. В 92-м я хотел сделать спектакль о Сталине. У моей семьи есть свой
счет к Сталину, и я сказал, что от имени всей семьи этим спектаклем я этот счет
закрываю. Мое отношение к нему не изменилось, но я не хотел быть рядом с
Абуладзе и его фильмом "Покаяние",
который считаю преступным. Преступным потому, что когда на Кавказе говорят: "возьми труп своего отца и выкинь его на
свалку" – в любой метафорической форме, –
после этого начинается кровь.
Поэтому это было не покаяние, а нечто обратное. Не зря Абуладзе после "Покаяния" ничего не снял, он не мог
больше работать как художник, и он это
знал, когда снимал. И он знал, по чьему приказу снимает. Это были высокие
покровители, высокий заказ.
– Но вы воспринимались тогда как человек, который в период
распада страны был на стороне тех, кто отстаивал наше коммунистическое прошлое.
–
Дело было не в этом. Дело было в том, что повеяло политической
метафизикой. Все испугались. Испугалась
сама Доронина, она не ждала от своих актеров – а я сделал ставку на молодежь, –
что они вдруг перейдут от форм поверхностного существования к такому тотальному
театру. Там начало что-то происходить, у них крыша поехала... Это и было
страшно – страшно то, что непонятно.
– Я видела ваш последний спектакль, не могу сказать, что я
все приняла в вашей работе, но какие-то вещи мне были интересны. Как ни странно,
мне были интересны постановочные приемы.
Например, когда на экране идут кадры из старого фильма "Весна", а живой артист как бы входит внутрь этого
сюжета, что очень сценически эффектно и наполнено смыслом. Но в целом, я уверена, этот
спектакль даже не для элитарной театральной публики, он для людей, которые
живут в тех плоскостях, что и вы. Но их надо найти, а их немного. Каким может
быть все-таки развитие такого театра?
–
Мой идеал – это 50 – 70 человек, которые приезжают ко мне на 3 – 4 дня, я
провожу с ними тренинг, после которого идет спектакль, и потом они уезжают. Я
хочу реально менять сознание, я не хочу действовать, как официант в ресторане,
не хочу обслуживать, даже самым изысканным образом. Я хочу вламываться в
сознание глубоко и до конца. Либо театр уходит вообще и превращается в ретро,
потому что он никого не интересует сегодня. Либо он может стать инструментом
тотального психологического, психофизиологического воздействия. Мы ищем эти
формы.
– Вы полагаете, это возможно?...
–
Если человеку это нужно, то возможно. Мне нужна когерентная публика, а не
та, которая просто покупает
билеты и приходит с улицы. Зачем мне эти билеты, я зарабатываю достаточно,
чтобы театр мог существовать.
– А возможны ли в вашем театре спектакли, сделанные на
основе литературных текстов,
драматургических, прозаических?
–
Возможно, я буду ставить такие спектакли. Может быть, я сам напишу серию пьес,
трагедий. Пьес в стихах. Я отношусь к числу людей, которые все свои идеи, включая
самые идиотские, реализуют до конца. Сейчас я хочу поездить с театром. Это
будет очень дорогое удовольствие, я понимаю, что мы едем деньги не зарабатывать, а отдавать. Но для
меня театр – это форма невербальной комплексной связи с теми сущностями и энергиями,
которые позволяют мне жить.
– Именно театр?
–
Конечно. Здесь же все связано. Есть написанный текст. А есть вещи, которые не
могут быть сказаны, они требуют тотальной телесности, эмоциональности, они
находятся по ту сторону чисто вербальных, текстуальных форм выражения. Для меня
театр есть подобного рода продолжение мышления в других формах. Раньше
говорили: театр – кафедра. Сегодня он перестал быть кафедрой и, видимо, уже
никогда не станет. Но мне кажется, он может стать чем-то большим. Я не скажу "церковью", но - формами духовного роста. И
изгнания смерти.
В
любом случае, я не хочу, чтобы из России ушла высшая интеллектуальная культура.
Чтобы единственной формой потребления интеллекта России стал вывоз отсюда
специалистов. Я хочу, чтобы здесь существовали свои очаги супер-хай-класса,
который заведомо превышает мировой уровень. Как в анализе, в философии, так и в
гуманитарной культуре в целом. Я верю в этот интеллектуальный театр, я
формировал элиту и формирую ее. В данном случае - контрэлиту, потому что с существующей элитой
мне говорить не о чем. И снова к нам приходят люди, которые ищут
выхода из сегодняшнего тупика, в том числе те, которые самым разным образом
интегрированы в существующую систему.
– А вы считаете, Россия в тупике?
–
Конечно. Это уже все понимают, и в ближайшем времени те, кто будет говорить об
отсутствии тупика в России, станут так же смешны, как были смешны лекторы ЦК
КПСС, которые в начале 80-х рассказывали где-нибудь в провинции, как мы хорошо
живем. Мы анализировали этот печальный процесс: буквально в последние месяцы
начался шквал нового неприятия, не поверхностно-политического – кто-то хороший
или плохой, – а всей действительности.
– А какие варианты?
–
Вариантов всегда было два: перейти от капитализма первоначального накопления к
современным формам буржуазного общества, либо признать, что с капитализмом
покончено, и на повестке дня стоит некая посткапиталистическая программа, поиск
которой идет и в мире. Все говорят сейчас о нетократии, власти сетей, о власти
экспертов, об интеллектуальном и символическом капитале, о нового типа роли
интеллекта в информационном обществе.
Надо пытаться выводить из криминально-пиратского уровня
капиталистические перспективы. Но чем дальше, тем больше понятно, что нет
субъекта, который захотел бы это сделать. Попытки в этом направлении были, но
пока это все безнадежно. Потенциальный капиталистический субъект в России
демонстрирует свою глубокую несостоятельность, полное несоответствие реальной
повестке дня и тем вызовам, которые существуют в обществе. Мы ползем в
настоящую криминальную помойку. Я знаю несколько уровней этой жизни, я понимаю,
что происходит.
– Что?
– А
происходит концентрация этой криминальной культуры, которой не нужны ни я, ни
МХАТ, ни Марк Захаров. И усилия действующей власти не способны это сползание
остановить. Оно страшным образом запущено, общество сломлено. Евгений Киселев как-то
говорил о том, что Юрий Владимирович Андропов лично привез Бахтина из
ссылки в Москву. Я всегда хотел понять, откуда такое внимание к теории
карнавала, а потом, в конце 80-х, увидел
этот воплощенный карнавал, воплощенное торжество низа.
– Это все бесконечно интересно. Последний вопрос: вы хотите
существовать изолированно или вы хотели бы все-таки войти в "семью" театров?
–
Нет. Ведь если бы я этого хотел, я бы строил жизнь иначе. Я всегда понимал, что
у меня нет места в существующей системе, я прыгал в будущее. Мне и сегодня нет
места в этой театральной семье. Лучше одиночество, чем барахтанье в
обслуживании существующего проекта.
– А у вас нет такого искуса – взять и поставить спектакль,
чтобы пришли зрители. Обычный спектакль.
–
Нет, абсолютно. Я могу это сделать, но зачем? Чтобы быть чем-нибудь
премированным? У Веры Сорокиной нет искуса стать народной артисткой России.
Какой-нибудь другой России – да. Будущей – возможно.
– А когда будет будущая Россия?
–
Посмотрим. Поскольку эта рухнет, то будет либо никакая, либо будущая. Вот в ее
строительстве я готов участвовать, как и готов помогать не рухнуть этой. Но в
развале я участвовать не могу – именно отвращение от развала вызвало во мне
такую резкую переориентацию к другим воззрениям на происходящее.
– А возникало у вас когда-нибудь желание уехать из страны ?
– В принципе, любой человек, занимающийся политикой, допускает для себя
политическую эмиграцию как элемент борьбы, но я не вижу сегодня к этому никаких
оснований. Любому человеку, который связан с Родиной, трудно уехать. Но для
человека, связанного с культурой, это просто смерть. Наверное,
если я буду спасать чьи-то жизни – не свою – или считать, что этого требует
логика борьбы, я смогу на это пойти и,
может быть, даже не сойду с ума и не повешусь. Но то, что это будет
глубочайшей, безвыходной трагедией в моей жизни, гораздо большей, чем любая
тюрьма, – это точно.
Перейти к оглавлению
|